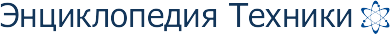Продолжаю цикл рассказов о жизни городов Российской империи. На очереди Киев.
Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля (1786 – 1856), отец которого был комендантом Киева:
«Киев! При имени его бьется еще и поныне охладевшее мое сердце, из потухающих глаз моих воспоминание о нём еще и поныне способно извлекать слезы. В течении всей жизни моей, ничего прекраснее мне не казалось, как первые предметы, которые в нём поражали младенческие мои взоры. Подобно Иерусалиму, сей праотец градов южной и западной России долго стенал под игом неверных; как мусульмане у дверей гроба Господня продают христианам позволение поклониться ему, так евреи у поляков держали в нём на откупе православные храмы и без платы молящихся в них не пускали. Уже более полутораста лет возвращен он был России, а язвы, нанесенные ему татарами, Литвою, но более всего польским правительством, еще не исцелились.

Город сей тем более был примечателен, что везде являл контрасты: нищету и великолепие. Бесчисленные храмы его с позлащенными, как жар горящими куполами, были окружены низкими, едва над землею заметными хатами; огромные, живописные горы служили ему подножием, а позади его расстилались необозримые, бесконечные равнины; с одной стороны была спокойная, величественная Россия, с другой бунтующая, истерзанная Польша[Польская граница находилась тогда в Василькове, в 35 верстах от Киева.]…
Во дни оны, Киев был проезжий, пограничный город и почти столица Малороссии; кругом его были расположены войска; в нём стекались и воинские чиновные лица, и украинские помещики по делам и тяжбам, и великороссийские набожные дворяне с семействами для поклонения святым мощам, и, наконец, просто путешественники, которые для развлечения посещали тогда южную Россию, как ныне ездят в чужие края».

Из воспоминаний Вигеля: «В России есть губернские и уездные города; в числе тех и других есть такие, кои должно назвать казенными, потому что в них встречаются по большей части одни только должностные лица; помещики же бывают в них только иногда, по делам... Киев более чем всякий другой принадлежал к числу сих казенных городов.
Малороссия, которая ныне разделена на две губернии, Черниговскую и Полтавскую, тогда составлена была из трех: Киевской, Черниговской и Новгородско-Северской; большая часть нынешней Полтавской губернии составляла тогдашнюю Киевскую. Жители Черниговских уездов, а еще более Новгородско-Северских, сохранили или приняли много русских навыков, бывши неоднократно под владычеством Московских государей; жители же южной Малороссии остались почти такими же казаками, какими были при Хмельницком.
Богатейшие из тогдашних киевских помещиков редко покидали свои хутора, с крестьянами своими, кои лет десятка два-три перед тем были им равными, имели одинаковые вкусы, одинаковые обычаи, одинаковую пищу, также всему предпочитали борщ и галушки, столь же нежно любили свиней, в одежде сохраняли ту же Запорожскую неопрятность. Их губернский город был за Днепром, почти в ненавистной им Польше, и со времен Петра Великого в нём беспрерывно начальствовали москали и немцы. Они чуждались его, хотя в нём ни язык, ни происхождение простого народа им вовсе не были чужды; однако же в последние годы царствования Екатерины, то обязанные служить по выборам, то привлекаемые приятностями общежития, они начали чаще и в большем количестве появляться».

Вигель отмечал: «Первые годы пребывания нашего в Киеве, кажется, ни французов, ни поляков, там совсем почти не было, а жидов очень мало». Также он писал, что цены в городе невысокие. Однако позже картина начала меняться. В 1812 году в Киеве насчитывалось более 4300 польских шляхтичей, а русских дворян около 1000. В 1830-х годах в Киеве было немало школ с польским языком обучения, и до того, как зачисление поляков в университет Святого Владимира (основан в 1834 году) не было ограничено в 1860 году, они составляли большинство учащихся этого заведения. И. М. Кабешетов (1827 - ?) в книге «Моя жизнь и воспоминания, бывшего до шести дворянином, потом двадцать лет крепостным» описывает дороговизну и засилье поляков. «Зима с 1847 по 1848 год была с глубоким снегом и метелями, телеграфов не было, почта шла медленно, и мне пришлось ожидать в Киеве что-то около двух недель. Это было в разгаре Киевской контрактовой ярмарки. Прежде приехали мальчики в плохой одежонке, так что им пришлось купить кое-какую теплую одежду и для отправки их нанять одноконного извозчика из простых тяжеловозов. Извозчикам во время ярмарки было работы по горло, и я принужден был заплатить извозчику для отправки мальчиков до города Сердобска Саратовской губернии 50 рублей; без ярмарки можно было нанять рублей за 25 или даже дешевле.

1880-е
Мне суточных на содержание назначено было 1 рубль. В дороге и других городах это было достаточно за глаза, но в Киеве не знакомому с тамошними ценами и обычаями при 1 рубле в сутки можно было остаться без квартиры и голодать. Все гостиницы от первоклассных до последних, все постоялые дворы были битком набиты, вся прислуга и обитатели гостиниц говорили почти все по-польски, вывески сплошь были написаны тоже по-польски. Это привело меня в удручающее впечатление, и к тому же на меня смотрели свысока. Я с трудом нанял в третьеклассной гостинице под лестницею холодною конурку с грязным тюфяком без всякого постельного белья за 75 копеек в сутки, а для продовольствия оставалось 25 копеек. Между тем не было порции плохого качества дешевле 35 копеек или, как говорили там, за "2 злотых и 10 грошей"…

1890-е
Здесь хочу прибавить, что такой траты денег, бросаемых на удовольствия и на напитки, ни прежде ни после я не видел ни в Петербурге, ни в Москве: шампанское везде лилось рекою. Для примера скажу, что граф Б. за 4 комнаты — один большой зал и три меньших — платил 120 рублей в сутки. Все увеселительные места битком набиты, гулянье и катанье на улицах непроездное, на бульварах прохода нет, и везде сплошная польская речь франтоватой публики. Раз как-то зашел я во второклассный ресторан закусить и сел за столик вблизи двух офицеров, говоривших по-русски, и я услыхал, как старший говорил младшему: - Вот, — говорит он, — сколько русской крови было пролито на горах и подолах Киева, чтобы отстоять его, эту мать русских городов, от печенегов, половцев и тому подобных диких кочевников, но в особенности от поляков, а теперь, смотри, самым страшным образом захватили Киев богачи поляки, сахарники, их администраторы, комиссионеры евреи, и купцы, тоже евреи. Мне постоянно русские говорили, что нам, русским служащим, с ограниченными средствами жить здесь очень тяжело, как по дороговизне, так и по высокомерному отношению к нам поляков, почти явно нас презирающих, в особенности теперь, в ожидании венгерского похода, где, как кажется, поляки будут опять отстаивать свою отчизну от моря до моря». Русские авторы отмечали, что отношения между русскими и поляками были откровенно плохими. Зато поляки активно шли на контакт с украинцами и сеяли среди них оппозиционные и националистические взгляды. Также были непростые отношения с евреями. 2 декабря 1827 года Николай I издал указ, запрещающий евреям постоянно жить в Киеве. Некоторым категориям разрешили остаться в определённых подворьях. В 1860-х ограничения ослабили. Но евреи – это уже отдельная тема.

Из позитивного автор отметил то, что в Лавре кормили и предоставляли возможность остановиться по демократичным ценам:
«- В первом флигеле для простого народа, кто сколько даст, а скорее даром, а в дворянском за 2—3 постных блюда и за кровать для ночлега по 20 копеек, и то не вымогают платы. «Пойду полюбопытствую», — говорю своему собеседнику и иду за теми, что пошли в дворянскую. Глазам моим представилось громадное здание длиною приблизительно сажен в 30—40. Внутри большая комната, в ней в два ряда поставлены длинные узкие столы, накрытые дешевыми скатертями. Пришедшие садятся за столы, и я сел. Подали борщ с рыбою, гречневую кашу, щедро политую постным маслом, и вареную картофель тоже с маслом, великолепнейший мягкий хлеб. Ели по четверо из одной белой миски, пили отличный квас. На мой голодный желудок это был чуть ли не царский обед. Немало отдельных комнат служили спальнями, иные с двумя, другие с четырьмя кроватями с тоненькими, но чистыми тюфяками и подушкою на каждой. Спрашиваю: что, тут же можно и ночевать и сколько берут за кровать? - Кто за обед и ужин платит 20 копеек, тому кровать дается даром. - А можно ли оставить здесь чемодан? - Чемодан можно отдать гостиничному служке, и он даст вам квиток, а вы после получения чемодана дадите ему по вашему усмотрению. - Боже, вот благодать-то!»

Киев конца 19 века описывает В. Ф.Романов в книге «Старорежимный чиновник». В том числе он описывает самую престижную гимназию. «В 1883 году я был определен в пансион классической Киевской гимназии, впоследствии по поводу столетия получившей название Императорской Александровской, в память императора Александра I. Гимназия эта занимала тогда всю роскошную усадьбу, выходившую на четыре улицы, с огромным садом, окаймленным высокими тополями. Фасад громадного здания гимназии, так называемой Николаевской постройки, отличающейся всегда мощной красотой, выходил на одну из красивейших улиц Киева — Бибиковский бульвар. Напротив гимназии в восьмидесятых годах был пустырь, частью обработанный под огороды; впоследствии здесь был разбит красивый большой сквер — Николаевский, в центре его с памятником Императору Николаю I, обращенному лицом к великолепной красной громаде здания Университета...
Бесконечный главный коридор гимназии, полутемный коридор со сводами верхнего этажа, где помещался гардероб пансиона, общие дортуары на 50 человек, выстроенные рядом кровати с одинаковыми на каждой одеялами, комната для занятий с рядом мрачных парт, с двумя всего свечами на каждой для шести учеников, вообще казенный холодный вид всего здания…

Пансионский стол, по сравнению с домашним, был не только мало вкусен, но и не достаточен; первая половина дня была обставлена в этом отношении ещё удовлетворительно: в 7/ ч. или в 8 ч. утра стакан чая с пятикопеечной булкой; в 12 ч. завтрак из одного мясного блюда и в 3 ч. дня обед из трех блюд; после этого перерыв до 7/ ч. вечера, когда полагался только один стакан чая с булкой. К пяти-шести часам вечера большинство начинало ощущать голод, и за чаем особенно хотелось съесть что-нибудь более существенное, чем одна булка. Мы обычно брали за обедом в карман по несколько кусков черного хлеба с солью, который и съедали, запивая водой, часов в пять вечера. К чаю же можно было покупать на свои деньги кусочек сыра или колбасы, либо стакан молока. Денег на руки нам (малышам) не давалось (они хранились у инспектора), кроме 15 коп. в неделю на мелкие расходы (напр., на зубной порошок, мыло, ибо казенное почти не мылилось и т. п.). На расходы же по буфету в столовой вместо денег выдавалась подписанная инспектором записка на право забора закусок на один рубль, причем буфетчик Антон обязан был следить за тем, чтобы гимназисты не покупали у него слишком много; он исполнял строго и добросовестно это требование, у него приходилось просто вымаливать каждый кусочек колбасы или сыра, за что он прозывался "ярыгой", т. е. скупцом...

1905 год
Каникулы были действительно заслуженным нами отдыхом, т. к. гимнастическим занятиям отдавалось в общем очень много времени: от 9 до 2/ ч. дня (5 уроков) и часа два-три домашнего приготовления уроков или, по крайней мере, формального сидения за таковыми. Что же давали нам эти, посвященные непосредственно гимназии, занятия?
Подавляющее большинство моих учителей, когда о них вспоминаешь в перспективе далекого прошлого, были несомненно люди весьма порядочные, за скромное вознаграждение добросовестно исполнявшие возложенные на них обязанности, люди большой доброты и сердечности, но самая система преподавания не могла нас увлечь, заставить полюбить науку, а главное, дать нам сознание ее действительной необходимости».

Также Романов подробно описывает театральную жизнь города.
«Городской оперный театр, прежний маленький, сгоревший в 1894 году, кажется, находился, когда я был в младших классах гимназии, в аренде у Савина, первого мужа знаменитой артистки; антрепренер этот был известен частыми своими прогарами; после одного неудачного сезона, он был даже заключен в тюрьму.
Поездка наша в оперу была каким-то торжественным событием, с приготовлениями, как на пикник: заготовлялись закуски, приобретались конфеты, заранее нанимались извозчики, отправлялись мы в театр за два-полтора часа до начала спектакля, долго сидели в ложе полутемного театра, наблюдали, как зажигались свечи у лож и на центральной люстре (тогда, кажется, даже газового освещения не было), слушали с волнением звонки, которых обычно бывало более трех, представление начиналось не в 7/ ч. вечера, как объявлялось в афишах, а обычно с опозданием на час и более и кончалось оно иногда только к двум часам ночи (напр., пять актов "Гугенот"). Каждый год, в начале сезона, объявлялось, что готовятся к постановке "Руслан и Людмила" и "Рогнеда". Представление их откладывалось «в виду сложности постановки», до следующего сезона…

В труппе Савина было несколько хороших голосов, но, по-видимому, дело шло на различных гастролях; оркестр был маленький, человек в сорок; хор отвратительный, в стиле "Вампуки", балет еще хуже — эта часть провинциальной оперы… Репертуар был, конечно, самый провинциальный, сборный; русские оперы шли мало, если не считать "Онегина" и "Демона".
Драматического театра в восьмидесятых годах в Киеве не было; на Крещатик, где-то во дворе, в тускло освещенном узком зале, давало представление Киевское драматическое общество. Странно, что несмотря на большую, казалось бы, доступность моему пониманию комедийного искусства, я им увлекался гораздо менее, чем оперой; комедия была лишена для меня романтического страха. Но все-таки, несмотря на весьма скромные средства, Драматическое Общество оставалось в моих глазах воспоминанием, как источник тоже большого наслаждения; участники его были такие артисты, как М. Петипа, М. Потоцкая, тогда еще почти девочка и др. Ответственные роли играл тогда талантливый для вторых ролей артист Осмоловский, нашедший свое настоящее амплуа второго комика лишь в серьезной труппе Н. Н. Соловцова; лучшего камердинера в "Плодах Просвещения" я, например, не видел. Несколько скромна была обстановка тогдашнего драматического театра можно судить по тому, что иногда, в случае болезни артиста, его заменял капельмейстер оркестра, а последний — это было нечто комическое; музыканты-еврейчики, когда становилось очень жарко, снимали сапоги. Переворот в театральной жизни Киева произошел, когда я был уже в старших классах гимназии, — в опере, благодаря антрепризе И. Прянишникова, а в области русской драмы — благодаря открытию постоянного драматического театра Н. Н. Соловцовым, именем которого до настоящего времени называется Киевский Драматический театр, в новом здании на Николаевской площади (ранее труппа Соловцова играла в скромном здании театра Бергонье на Фундуклеевской ул., бывшем цирке)…

Гимназические наши увлечения театром вызывали сильные преследования со стороны начальства: запрещалось посещение галереи, которая и была только доступна нам по цене при частом посещении театра (билет на галерее стоил 40 коп., а в последнем ряду партера 1 р. 20 коп.), в пансионе же разрешалось посещение лож не выше бельэтажа (не знаю чем объяснить подобный снобизм), наконец, в последние годы моего гимназического пребывания было установлено требование на каждое посещение театра получать разрешение инспектора. Я никогда не мог понять такого отношения к театру, так как гораздо хуже было времяпровождение отдельных «взрослых» гимназистов, увлекающихся картами, что не могло быть проконтролировано гимназическими воспитателями... Запрещение галереи заставляло нас переодеваться в штатское платье, иногда даже гримироваться; помню, как мой сожитель и друг Миша Филиппенко, имевший золотисто-рыжие волосы выкрасился раз черным пахучим фиксатуаром; соседи страшно волновались по поводу невыносимого резкого запаха, подозревая, что это какая-нибудь дама неистово надушилась дешевыми духами; затем, под влиянием ужасающей обычно жары на галерее, М.Ф. начал таять и лицо его покрылось черными подтеками. Брат мой однажды так был неузнаваем в еврейском костюмчике и фуражке, что когда меня шутя, с ним познакомили, я серьезно назвал свою фамилию.

Обычно мы удачно в темноте галереи скрывались от дежуривших в театре помощников классных наставников и педелей, но иногда приходилось, при ненадежности положения, брать места в партере и тогда мы чувствовали себя какими-то бесправными, заброшенными. Дело в том, что на галерее все были знакомы, там происходила живая интересная критика исполнителей, там только можно было, не стесняясь, дикими криками выражать свои восторги или свистом порицать плохое исполнение, наконец, там был центр "партийной борьбы". С галереи мы быстро устремлялись к выходу из-за кулис или к квартирам особо любимых артистов, где еще устраивали последние овации. Вот эта борьба "партий" (процветавшая специально в оперном театре) и уличные овационные путешествия и представляли из себя наибольшую опасность в смысле возможности кары со стороны гимназических властей. Как во время наших отцов, Киевский оперный театр был раздираем распрями сторонников Павловской с одной стороны и Кадминой с другой, так в мое гимназическое время партии группировались вокруг двух имен: Лубковской и Силиной, хотя репертуар их очень редко совпадал...

Но, впоследствии, когда Киевская опера имела одновременно двух крупных теноров: еврея Медведева и русского Кошица, партийная борьба… приобрела неожиданно еще национальную окраску и достигла максимума своего обострения. Все Лубковисты, к которым принадлежала и моя компания, сделались яростными юдофобами. Евреи, гордясь наличностью в опере двух таких действительно крупных сил, как Тартаков и Медведев, старались всячески умалить достоинство русских артистов, а о таких, которые не имели конкурентов, например, о Фигнере, распространяли ложные слухи, что они еврейского происхождения; даже при дебюте Шаляпина в частной опере Панаевского театре, мне пришлось слышать разговор, что вот, мол, появился замечательный еврей-бас. Я всегда любил моих товарищей-евреев за их искреннее увлечение искусством, но никогда не мог примириться с их каким-то шовинизмом в деле преувеличенного прославления "своих"».
Обратите внимание: Дореволюционный Новый год в воспоминаниях современников.
В 1911 году, во время посещения Киевской оперы, анархистом Дмитрием Богровым был смертельно ранен премьер-министр России Пётр Столыпин, но это уже другая история.
В Киеве родился и вырос известный артист Александр Вертинский (1889 – 1957), который тоже оставил описание города своего детства.
«Девятого марта, по православному календарю на «40 мучеников», в день моего рождения, торжественно и пышно приходила весна. Приходила она точно в назначенный день, никогда не опаздывая и не заставляя себя ждать. Она приходила, как добрый хозяин в свой старый, заколоченный на зиму дом, и сразу принималась за работу. Открывала ставни, очищала снег с крыш, раскутывала молодые яблони в саду и наводила порядок…
В нашей квартире выставлялись двойные рамы, переложенные ватой с мелко нарезанным красным и синим гарусом. Осторожно выливались в раковину стаканчики с серной кислотой. Отклеивались окна, и в комнаты врывался март! Ещё холодный, пахнущий морозцем, шумный, голубой и солнечный…
Большеглазые украинские дивчата совали в руки букетики синих и белых подснежников и фиалок, и прохожие покупали их так, как будто это было неизбежно и естественно и только этого они и ждали всю зиму.
Утром в этот день кухарка Наталья приносила с базара тёплые, только что испечённые «жаворонки» со сложенными крылышками и с чёрными изюминками вместо глаз и говорила:
— Ну, панычу, поздравляю вас!...

По субботам кузина Наташа, которая иногда подолгу жила у нас, водила меня за ручку во Владимирский собор (прим. собор был открыт в 1882 году, в его росписи участвовали многие известные художники, и при этом бурлили нешуточные страсти). Как прекрасно, величественно и торжественно было там! Васнецовская гневная живопись заставляла трепетать моё сердце. Один "Страшный суд" чего стоил. Откуда-то из недр растрескавшейся земли в день Страшного суда выходили давно умершие грешники с измождёнными, неживыми лицами и тянули свои иссохшие руки к престолу Всевышнего. Из каких-то каменных подземелий среди развороченных могильных плит и гробов восставали цари в ржавых коронах, с поломанными скипетрами. А худые и строгие праведники, высохшие, как скелеты, возводили очи к небу, благочестиво прикрывая наготу свою длинными седыми бородами. Давно умершие люди, бледные и прекрасные царицы, "в бозе почившие" цари — всё это толпилось у подножия трона в день последнего Божьего суда.

А рядом, около алтаря и наверху в притворах, была живопись Нестерова. Как утешала она! Как радовала глаз, сколько любви к человеку было в его иконах! Вот Борис и Глеб, похожие на царевичей из русских сказок. Вот "Рождество Христово" — созвездие, приведшее волхвов к яслям. Вот великомученица Варвара… И все это на фоне русских задушевных пейзажей со стройными ёлочками и юными подростками-берёзками. А какая вера светилась в глазах этих мучеников!
Если Васнецов покорял и даже пугал мощью своей живописи, если его святые были борцами за веру, крепкими и мужественными, то святые Нестерова выглядели просветлёнными и благостными, тихими и примирёнными с жизнью, которую они принимали как она есть, но в самой глубине её — находили источники душевной чистоты русского народа.
Образ Богоматери был наверху, в левом притворе. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо Богоматери! В огромных украинских очах с длинными тёмными ресницами, опущенными долу, была вся красота дочерей моей родины, вся любовная тоска её своевольных и гордых красавиц. Я окаменел, когда увидел впервые эту икону. (прим. Богородицу писали с Эмилии Праховой, жены Адриана Прахова – искусствоведа, курировавшего строительство и отделку. У неё завязался бурный роман с Врубелем, который и выбрал любовницу в качестве модели. Прахов не стал путать личное и профессиональное и не мешал работе любовника жены. Но выбор женщины неоднозначного поведения на роль модели многих современников смущал) И долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, не в силах оторвать от неё глаз. Много лет лотом, уже гимназистом, я носил время от времени ей цветы. А внизу, в храме, по субботам, во время торжественного богослужения, пел хор Калишевского. Как пели они, эти мальчики! Как звенели их высокие стеклянные голоса! Какими чистыми горлицами отвечали им женские! Как сдержанно и тепло рокотали бархатные басы и баритоны мужчин!
Великим постом на Страстной неделе посреди церкви солисты из оперы пели «Разбойника Благоразумного». Моя детская душа не могла вместить всех этих переживаний. Точно чьи-то невидимые ангельские руки брали её и, как мячик, подбрасывали вверх — к самому куполу, к небу! Как радостно и страшно было душе моей, как светло! И, наконец, самое главное. По ходу службы из алтаря появлялись в белых стихарях тонкие и стройные мальчики чуть постарше меня и несли высокие белые свечи. И все смотрели на них!»

Вертинский тоже учился в Александровской гимназии, но его быстро выгнали за неуспеваемость. Он вообще плохо учился. «И наконец меня выгнали из второго класса этой аристократической гимназии, которая к тому времени стала называться Императорской Александровской гимназией и окончательно "задрала нос". Впрочем, на гимназическом жаргоне воспитанники её по-прежнему назывались "карандашами", несмотря на то, что над веточками их серебряного герба появилась сверху императорская корона. Меня перевели в гимназию попроще. Была она на "Новом Строении", на Большой Васильевской улице, и именовалась "Киевская 4-я гимназия". Мы все, мальчишки, были патриотами своих гимназий, презирали другие гимназии. Но самое большое удовлетворение заключалось в том, чтобы лупить "карандашей", "аристократов"».

Из воспоминаний Вертинского: «Зимой мы устраивали «пасовки» в Киево-Печерскую лавру. Лавра стояла на отлёте от города, на высоком берегу Днепра. Она занимала большое пространство со своими церквами, службами, кельями, монастырём, помещениями и конторами. С утра до ночи в ней толпился народ. Тысячи богомольцев со всех концов страны заполняли её. Крестьяне из далёких губерний с детьми, узлами и котомками, старики и старухи, нищие калеки, бездомные странники. На специально отведённом для них выгоне за стенами лавры, на высоком обрыве над Днепром, на кучах выгребного мусора, как многострадальные Иовы, сидели эти люди.
Слепые украинские кобзари с сивыми чубами и усами крутили рукоятки своих стонущих жалобно кобз — примитивных инструментов — и голосили, истошными надрывными голосами рассказывая доверчивым бабам невероятные истории из жизни святых и мучеников. Пылкая украинская фантазия плюс необходимость потрясти воображение слушателей (иначе ничего не соберёшь) уводили этих «поэтов» и «религиозных комментаторов» в такие сюжетные дебри, откуда они сами порой не могли уже выбраться. И вдруг неожиданно обрывали свои "арии", что называется, на самом высоком "фермато"…

Сердобольные украинские "молодицы", с головой укутанные в тёплые платки, заливались слезами и кидали трудовые копейки в деревянные чашки, выставленные для сбора пожертвований. Половина этих слепцов была, конечно, симулянтами.
Страшные, распухшие от волчанки и экземы калеки с вывороченными руками и ногами, нищие, покрытые язвами, безносые гнусящие сифилитики, алкоголики, бродяги, карманники — все копошилось на этом гноище, вопило, пело, стонало, молилось, стараясь обратить на себя внимание. У них были свои законы, своя этика и свои порядки. Лучшие места, поближе к воротам, занимали "премьеры", "первачи". Некоторые из них были далеко не бедны, имели даже собственные дома где-нибудь на Шулявке или Соломенке. Сидя тут по десять — двадцать лет, они накапливали себе небольшие состояния и обзаводились семьями, а на все это смотрели как на службу…

1910-е
Страшное это было место, и мы обходили его. Нас интересовали пещеры. Глубоко под землёй, пересекая даже русло Днепра, шли бесконечные пещеры-катакомбы, вырытые когда-то первыми христианами, которые спасались от языческих гонений. Вырывшие их там жили, там же и умирали, там и погребались. Постепенно православная церковь причислила некоторых из них к лику святых. В узких тёмных коридорах, вырубленных в граните, по правой стороне, одна за другой шли гробницы с дощечками и именами святых. Их мощи были, по-видимому, набальзамированы в своё время, обтянуты сверху красным кумачом и находились в маленьких нишах, тускло озарённых лампадками. Верующие богомольцы прикладывались к ним, целуя кумач, и клали сверху медяки на свечи угоднику.
Вот эти-то медяки и были предметом наших вожделений. Но как украсть их? Обычно процессию паломников сопровождал какой-нибудь монах со свечой (в пещерах было темно). Люди крестились, молились, а потом нагибались и целовали мощи. Вот тут-то мы и придумали трюк. Нагнувшись к мощам и делая вид, что мы их целуем, мы набирали в рот столько медяков, сколько он мог вместить. Отойдя в сторонку, мы выплёвывали деньги в руку и прятали в карман.
Брр! До сих пор не могу вспомнить без отвращения!...
В монастырской трапезной бесплатно выдавали постный борщ из капусты и чёрный хлеб. Этот вид человеколюбия и милосердия богатая лавра могла себе позволить. А за три копейки можно было купить пирог. Большой пирог! Настоящий «брандер», как мы его называли. Что за дивный вкус был у пирогов! Одни были с горохом, с кислой капустой, другие — с грибами, с кашей, душистые, тёплые, на родном подсолнечном масле. Они доставляли огромное наслаждение. Одного такого пирога было достаточно, чтобы утолить любой голод».

1900 год
Из воспоминаний Вертинского: «На Фундуклеевской в маленьких грязных лавчонках торговали французскими булками, халвой, керосином и, главное, конфетами. Но какими конфетами! Только одну копейку стоил «столбик» — довольно большой, кисленький, приятный, твёрдый и стойкий, долго не таявший во рту и длящий наслаждение до бесконечности. Четверть фунта халвы продавали за пятачок. Вот только денег не было, чтобы покупать все эти райские сласти. А французские булки в лавочке пахли керосином, и тётка строго-настрого запрещала их покупать. Нужно было покупать в настоящей булочной на Большой Подвальной у Септера. Но Септер был далеко, идти туда не хотелось, и я, пренебрегая запретом, упорно покупал булки в соседней лавчонке. К запаху керосина примешивался ещё запах лампадного масла, ибо хозяин был верующий старик старообрядец и в лавке горело много лампад, которые ежеминутно гасли и которые он сам лично заправлял новыми фитильками, а потом, отерев руки о фартук, отпускал покупателям товар...

Почти рядом с нашим домом на этой квартире была дружина вольнопожарного общества. В огромном сарае стояли бочки с водой и насосы, и тут же в стойлах топтались приготовленные к упряжке кони. А наверху была каланча. Днём и ночью ходил вокруг неё по маленькой площадке дежурный часовой и, если замечал где-нибудь пожар, звонил в колокол; тогда моментально раскрывались двери, запрягались лошади. Первым выскакивал передовой верхом на коне, а через полторы-две минуты за ним вылетала уже вся команда. В ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги, она была неотразимо прекрасной. С лестницей, с топорами и баграми, с особым шиком, едва держась одной рукой за поручни, стояли пожарные. Грохоча, колесница уносилась вдаль, похожая на колесницы римских гладиаторов».

Если во Времена Вигеля в Киеве было всего около 20000 жителей, то во второй половине 19 века и город, и население росли быстрыми темпами. В 1900 году в городе было 260000 жителей, а в 1917 году – уже 430000.
Больше интересных статей здесь: История.
Источник статьи: Дореволюционный Киев в фотографиях и мемуарах.